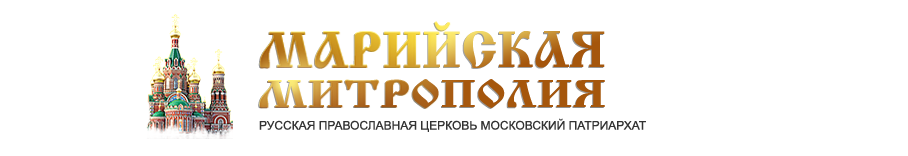Махновец Татьяна Александровна,
доцент кафедры русской и зарубежной литературы МарГУ
Российская провинция в зарубежном творчестве И.С. Шмелева
Тема российской провинции, которая может показаться частной, лишь одной из многих в литературе, занимает в творчестве И.С. Шмелева место, обусловленное ее связью с такими образами-категориями, как “жизнь” (“живое”), “родное” — ключевыми и программными в художественной системе зарубежной прозы писателя. На их ключевой и категориальный характер указывает выделение разрядкой, цель которого — обратить особое внимание читателя на слово, имеющее важное значение, глубокий смысл. Об этом подробно сказано в письме И.С. Шмелева к О.А. Бредиус-Субботиной от 27 февраля 1942 года1. Такие слова оставляют впечатление выделенных говорящим интонационно: ведь сказ — область писательского мастерства Шмелева. Впечатлительность и зоркость читателя — необходимое условие для верного восприятия им ценностного аспекта написанного Шмелевым в зарубежный период. К сожалению современный читатель не всегда готов к такому труду сотворчества, привычка схватывать лишь общий смысл информации обедняет содержание горячей, живой речи писателя, его слова, идущего “от избытка сердца” (Лк. 6, 45), при этом ускользает от внимания ценностный характер сказанного. Между тем, “живое” и “родное” — важнейшие и всегда связанные ценности в концепции миpa и человека, какой она предстает в зрелом творчестве писателя.
“Живое” — слово, в богатстве оттенков своего значения всегда сохраняющее представление о “сущем”, которому определенно противостоит “не-сущее”, ничто. Добро — сущее именно потому, что исходит от Сущего, который и есть — Добро, Любовь, Свет; зло — не-сущее, ничто, примешивающееся к добру: трактовка добра и зла в зарубежной прозе Шмелева с годами приобретает соответствие изложенному в Ареопагитиках2.
“Родное” — это, в представлениях Шмелева, не только и не столько кровное, родственное, сколько изначальное, изначально данное. Родное объединяет прошлое и настоящее. Настоящее живо только в том случае, если не утрачено давнее и родное. В сочетании “родное наше” (в рассказе “Куликово поле”) содержится сложный комплекс значений, в котором притяжательность отодвигается чувством ответственности: это дар который требует трепетного отношения, сохранения. И это при том, что “родное наше” — не в прошлом, а всегда “есть”. Оно есть, но человек может его утратить (т.к. свободен в своем выборе). “Живое”, “родное” — то, что противостоит смерти и греху, потому что оно было до греха и смерти. Не случайно мысль о рае настойчиво звучит в романе “Пути небесные”, проходит и в рассказе “На пеньках”, не понятая повествователем (Феогностом Александровичем Мельшаевым), и всегда, соотнесена с “живым” и “родным”. “Родное” не совместимо с рассудочностью и выбором, так как выбор может увести от родного, вызвать его утрату.
Такая концепция во всей своей полноте и определенности сложилась за пределами России, но рождена сознанием того, что “родное наше” всегда будет с нами, если мы им дорожим. Именно в таком свете, в свете важнейших ценностных ориентиров — тема, относительно частная, позволяет выявить концептуальный подход к ней писателя в целом ряде произведений, давшем картину свидетельств о России. Существенным является подбор рассказчиков. Среди них немало людей бывалых, хорошо знакомых с жизнью русской провинции, способных еще и оценить ее в сравнении с возможностями столиц и далеких стран — не только европейских. В рассказе “На пеньках” Феогност Александрович Мельшаев, профессор, член двух европейских академий, употребляет образ “дали”; с ним связана притягательность чужих стран и морей, манящих своей необычностью, обещаюших неведомые радости. В сопоставлении с ними вспоминается скромный русский пейзаж, радующий необыкновенной тишиной: словно “ангелы Божьи неслышно ходят в березках”.
Предельно скромно сказано о жизни в маленьких провинциальных городах, в деревне повествователем рассказа “Про одну старуху”, который прямо назван бывалым человеком. В самом начале истории нелегкой судьбы крестьянки Марфы Пигачевой из “Любимовского уезда, за Костромой” предстает Россия трудовая: деревня Волокуши, города Иваново, Ярославль, Череповец, Звенигород — топонимы, объединенные в речи человека, о котором известно, что он, “бывало, дела вертел”. Они объединены трудом, теми технологическими процессами, которыми связаны хозяйства деревни и города, когда это хозяйство хорошо отлажено, “на ходу”. “Коромысло-то ходило” в России дореволюционной, по словам рассказчика. Здесь все небольшое, но нужное, без чего и жизнь перестает быть жизнью, как стало ясно в годы “смуты” (так называет обычно Шмелев революцию и гражданскую войну). Череповец не раз упоминается и в рассказе “Марево” — вместе с Рыбинском и Белозерском.
Лишь Белозерск предстает в глазах заезжего инженера-изобретателя городком с “ладошку”. Для него даже найдено прозвание — “Пропалуйск”, ему противопоставлены Сан-Франциско, Нью-Йорк, Париж. Противопоставлены при первом впечатлении. В конце рассказа произнесены слова: “в Белозерске лучше было”. Здесь, в “Белозерске тысячелетнем” только и может быть встречена княжна, царевна из сказки — Паша Разгуляева, которая закончила гимназию, собирается на курсы, играет Скрябина, Грига и Глинку. А ее отец делами связан с Рыбинском, Череповцом, Мологой, Вологдой и “все” знает и умеет, и дорожит своим “гнездом” в Белозерске.
В древнем городке у белых вод и может быть встречена “родная”, встречена просто, потому что и “жизнь дается” “мудро-просто”. Но человек индустриальной эпохи, человек талантливый и беспокойный, в простоте увидел пресность; экзотика перевесила простоту, увела от нее. Был совершен выбор там, где выбирать не нужно — все дано: “живая беспредельность”, “весь мир”, “все — в ней”. Беспредельность — это свобода и полнота. И чувство полноты связано не только с “ней” — девушкой, но и с Белозерском, где жива история от князей-варягов.
Вместе с историей на страницах рассказа “Куликово поле” встают перед нашими глазами просторы России, когда в смятенной речи рассказчика-следователя начинает развертываться перечень тех мест, которые он должен был узнать в пору, когда еще не был оторван от России: узнать, побывать, “воздухом давним подышать, к священной земле припасть, напитанной русской кровью, душу собрать в тиши”. “В тиши” — потому что Печеры, Изборск, Псков, Владимир, Боголюбово, Ростов-Великий” — все это в XX веке стало тем, что и называется российской провинцией. Провинцией по жизненному укладу, удаленности от столиц, но не по месту в истории — в душе человека, как и Куликово ноле, и Бородино. Вторая глава рассказа “Куликово поле” в истории русской литературы сопоставима со “Словом о погибели Русской земли”: в обоих случаях на предельно кратким текстом рисуется картина, вызывающая чувство полноты: “Всего еси исполнена земля Руская, о правоверная вера хрестияньская!” Здесь озера, реки и кладязи “местночестьные”, горы и холмы, дубравы и поля, “домы церковные” и “винограды”, (сады) обительные. И в рассказе Шмелева: заволжские леса, Светлояр, часовенка у истока Волги, старинные соборы и монастыри. “Князьми грозными, бояры честными” сильна эта земля. Определяя место “Слова о погибели Русской земли” в истории литературы, В.В. Данилов пришел к выводу, что оно “сближается не со всякими патриотическими произведениями в других литературах, а лишь со сходными по условиям своего появления, когда родина писателя страдала от войн, междоусобий и произвола”3. В такое время, в таких условиях писал и Шмелев. А в пору благополучия дороги уводили от “поющей красоты” скромных деревянных церквей русского Севера в чужие соборы и галереи.
“Деревянная красота”, созданная руками строителей, оставшихся неведомыми, названа ”поющей”. Это слово тоже принадлежит к ключевым в поэтике Шмелева. Поет все небо, сливая свою песнь с гулом колоколов в ночь Рождества (“Лето Господне” и “Пути небесные”), поют, раскрываясь, цветы яблонь в саду, названном райским (вторая часть романа “Пути небесные”). Творение славит Творца.
Рождают песню широта, раздолье, которыми богаты пространства России. В отличие от песни городской (в театре, в ресторане), это пение тоже идет от полноты душевной. Рядом с крестьянской, народной песней (“Во лузях”, “Лучинушка”) звучат Глинка, Верстовский. Исполнение сложных вокальных произведений доверяется писателем талантливейшим людям, которые не являются профессионалами или предстают перед читателем до совершения ими профессиональной карьеры: из глубины России они выходят на свет мировой известности; именно “родное” становится основой постижения мира, раскрывающегося в музыке. Паша Разгуляева (будущая Лина-ди-Келетти), инженер-путеец Артабеков (“Пути небесные”) до выхода на сцену обладают даром открывать сердца слушателей навстречу глубоким чувствам, поднимая над обыденностью, освобождая от обособленности человека, замкнутого на себе и своем. Мгновениями такое пение дает выход к высотам духа, как это произошло при исполнении романса Чайковского на слова поэмы А.К. Толстого “Иоанн Дамаскин”. Писатель ведет читателя от радушного застолья в имении, получившем название Уютово, от приволья природы, явившейся в удивительном “райском” саду, созданном гениальным садовником, к высоте и глубине, о которой смог сказать своим искусством поэт-ювелир, создавший брошь хозяйки (идея ее — чистота, высота, недосягаемость), к искусству художника, запечатлевшего в портрете чистоту облика Ольги Ютовой, прежней владелицы усадьбы, тихое и радостное изумление ее глаз, устремленных в небо, сияние неба в ее глазах. Лишь после этого звучит романс “Благословляю вас, леса”, ведущий к постижению высшей гармонии. Все это — ступени к принятию героем романа, будущим иноком Оптиной, Вейденгаммером чувства Безмерного, постигаемого лишь верой. Здесь, под Мценском, в провинции, жизнь которой прежде казалась Виктору Алексеевичу скучной, ему открылось, “что все точно и мудро поставлено на место, назначено для чего-то”, без чего невозможна полнота жизни, без чего подменяется она суетой.
Мценск, вошедший в присловье: “а-мчанина тебе во двор” — из-за злоречивости местных жителей, радушно открывается навстречу героине “Путей небесных”, начавшей жизнь на новом месте молитвой, поднятием икон. Но есть у писателя и любимые места: ярославцы, вологодцы — носители глубоко укорененной русской ментальности, проявляющей себя в ту минуту, когда человек проверяется на человечность. Старый профессор, пишущий о Ломоносове даже в самые голодные и страшные времена, является персонажем и “Солнца мертвых”, и рассказа “Однажды ночью”. Он вологодец, его горячее и бесстрашное обращение к матросу-вологодцу, одному из “первых красных” в Крыму, спасает арестованных; спасает родная речь. Ярославским говорком характеризуется Василий Поликарпович Печкин (рассказ “В ударном порядке”), чье осознание себя русским связано с ответственностью за Россию, за ее славу, ради которой отправляет он на зарубежные выставки плоды из замечательных садов Манина. В Москве, на пригородных дачах сколачивал свое состояние ярославец, но развернулся в манинских чудо-садах, откуда каждый двор в окрестности получает с урожая меру яблок.
До безграничных просторов России способно расширяться художественное пространство в программной книге Шмелева “Лето Господне”: в московский дворик входят, сохраняя достоинство знающего себе цену мастера, люди из разных губерний — наниматься к московскому подрядчику, известному и размахом работ, и справедливостью. К праздничному торгу, к великопостным дням тянутся к Москве обозы со всех концов России: клюква из Архангельска, грибы из-под Можайска, яблоки и из Кинешмы, и из Курска. Только такой предстает Россия писателю из далекого зарубежья — единой в своем хозяйстве, в своей истории, в характере народа, в единстве прошлого и настоящего.
Примечания
3 Данилов В. В. “Слово о погибели Русский земли” как произведение художественное // ТОДРЛ. Т.
Сокращения: ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН.