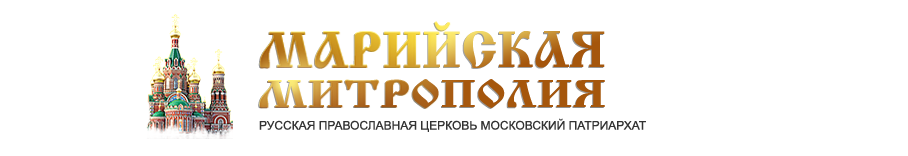Михеева Ольга Васильевна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской и зарубежной литературы МарГУ
Трагедия совести маленького человека в рассказе
Ф.М. Достоевского “Господин Прохарчин”
Рассказ “Господин Прохарчин” (1846) — одно из самых глубоких и трагичных произведений раннего Достоевского, основную идею которого А.Л. Бем определил как “трагедию совести маленького человека”1 . “Светлая идея”, которой дорожил Достоевский в “Двойнике”, снова появляется в “Господине Прохарчине”. Снова перед нами — исследование души забитого “маленького человека”, его одиночества, социальной и нравственной незащищенности, замкнутости и расколотости его сознания, бегства “за ширмы” как в своеобразное “подполье”. Сам Достоевский определяет “сверхидею” своего творчества, нашедшую отражение в какой-то степени и в “Господине Прохарчине”, как идею “восстановления”, “возрождения” в человеке образа Божия, считая ее мыслью “христианской и высоконравственной”. Первый этап ее воплощения в творчестве писателя В.Н. Захаров определяет как “осознание человека в себе, стремление найти человека в человеке”2 . Именно эта мысль находит свое отражение в рассматриваемом рассказе Достоевского. В “Господине Прохарчине” начинается постепенное очищение души главного героя Семена Ивановича Прохарчина от греха отъединенности от людей и накопительства. В очистительном пламени пожара, трансформировавшегося в сон-бред героя, “сгорает” “внешний человек”, человек-кукла, “пульчинель” и рождается человек “с серыми глазами”, который чувствует вину за всех. Это — рассказ о чудесном “пробуждении” в Прохарчине “внутреннего человека”, в котором, наконец, проснулась совесть, возникло ощущение себя частью всех людей.
Святитель Феофан Затворник определяет “совесть”, наряду со страхом Божиим и жаждой Бога, как одно из “проявлений движений жизни Духа” в человеке. Совесть “указывает, — пишет свт. Феофан, — что право и что неправо, что угодно Богу и что неугодно… Совесть есть законодатель, блюститель, судия и воздаятель”3 . “Берегите великий дар Божий — совесть, наставлял своих духовных чад схиигумен Савва, старец Псково-Печерской обители. — Она соединяет нас с небом, она покоряет нашу слабую греховную волю святой всесильной воле Божией. Совесть — это голос Божий в человеке, голос Ангела-Хранителя”4 . Угрызения совести, подобные “жгучему пламени адской муки”, старец Паисий Святогорец называет “мученичеством” совести5 . “Трагедия совести” в рассказе Достоевского и есть, пожалуй, “мученичество” совести, которое и претерпевает господин Прохарчин. Паисий Святогорец в своих “Словах” выделяет три состояния “совести у человека: 1) “спокойная”, не обличающая в грехах совесть, 2) “заглушенная” послегреховными радостями совесть и 3) “искаженная” грехами совесть, когда человек уже доходит до бесчувствия и начинает хвалиться своими преступлениями. “Для человека нет ничего важнее, — наставляет старец Паисий монашествующих, — чем спокойная совесть. Если твоя совесть не обличает тебя в том, что ты мог сделать что-то еще и не сделал, то это великое дело. В этом случае человек имеет постоянную внутреннюю радость и вся его жизнь — торжество, праздник”6 . “Промежуточное” состояние между “спокойной” и “искаженной” совестью, по Паисию Святогорцу, — это “заглушенная” послегреховными радостями совесть. “Случившаяся после неисповеданного греха радость, — продолжает старец, — “покрывает” переживание за грех, и ты постепенно его забываешь. Ты уже не видишь своего греха, потому что радость, как крышка, покрыла его сверху. Радости покрывают грех, загоняют его вглубь, но он продолжает работать изнутри. Таким образом человек попирает свою совесть и поэтому начинает очерствевать, а его сердце потихоньку засаливается”7 .
Представляется, что герой рассказа Достоевского господин Прохарчин переживает именно “трагедию” или “мученичество” “заглушенной” послегреховными радостями совести. Тихая и скромная, даже “счастливая в патриархальном затишье”8 жизнь Семена Ивановича на старой квартире Устиньи Федоровны в качестве фаворита “заглушила” его грех накопительства и отъединенности от людей, и он забыл о нем. Но грех его “продолжал работать изнутри”, и Прохарчин начинает “очерствевать”, а его сердце — потихоньку “засаливаться”. На новой квартире все вдруг изменилось. Новая квартира и новые жильцы, которые “жили между собой словно браться родные” (I, 246), — первый рубеж другой, новой жизни Семена Ивановича. Но всем этим жильцам Прохарчин был “как будто не товарищ” (I, 241) и уж совсем далек от осознания себя им “братом”. И виноват во всем этом, как поясняет рассказчик, был сам Семен Иванович.
Прежде всего, все обратили внимание на скопидомство и скаредность Прохарчина, который никому не мог и чайника одолжить, никогда не ел полного обеда, не отдавал белья в стирку, но больше всего не любил любопытствующих о своем житье в углу “за ширмами” и всех советчиков; будучи обычно несговорчивым и молчаливым, усердно стыдил, называя то “мальчишкой”, то “свистуном”, да и вся его косноязычная речь состояла из угроз, ругательств и поношений (иногда довольно жестоких) в адрес своих “сожителей”. Семен Иванович как будто от чего-то оборонялся, что-то настойчиво защищал... Суета, тягость, глухое беспокойство, отгороженность от окружающих и даже враждебная неприязнь к ним, к этим “сквернословам”, “ворам”, “тузовым”, “каблукам”, “гвоздырям”... — вот приметы “внешнего” и “ветхого” человека в герое Достоевского9 , его “заглушенной” совести, когда человек чувствует постоянный страх и не имеет внутреннего мира и тишины. Но окончательно потерял свой покой Семен Иванович тогда, когда один из жильцов, Зиновий Прокофьевич, ненароком спросил его о том, что же находится в стоящем под кроватью сундучке Прохарчина; быть может, он откладывает что, “чтобы оставить потомкам”? (I, 243). От такой “обнаженной и грубой мысли” (I, 243) Семен Иванович, к всеобщему изумлению, “слез с постели своей” и “нарочно подсел” к жильцам (I, 243) (впервые в своей жизни!) под видом “выпить чаю” и начал “весьма пространно” изъяснять, что он бедный человек и копить ему не из чего (I, 243). Этот выход к жильцам в новой квартире (пока в квартире!) из-за ширм — следующий рубеж новой жизни Семена Ивановича, еще одна ступенька к выходу его в настоящую жизнь.
Зиновий Прокофьевич, сам того не ведая, “попал” в самое больное место Прохарчина. Семен Иванович, действительно, тайно от всех копил деньги, отказывая себе во всем, и прятал их, только не в сундук, а в грязный тюфяк, на котором спал. Забитый, бедный и ничтожный получеловек-полукукла (недаром он не жил, а именно “помещался” в своем углу, как нечто неживое*), боящийся людей и всего “мира Божьего”, чтобы как-то укрепиться в нем, начинает копить деньги. Но беда в том, что накопительство превращается у него в страсть, а всякая страсть, как грех, ведет к гибели души, ослепляет разум, “заглушает” совесть, делая душу черствой. Беспокойство и страх Прохарчина именно от этого. “Такой человек, — поясняет Паисий Святогорец, — не имеет покоя, поскольку загнанное внутрь расстройство не умолкает... Он живет с непрекращающимся терзанием, мучается и не может понять, в чем причина всего этого, потому что его грехи покрыты сверху, загнаны вглубь. Такой человек не понимает, что страдает от того, что совершил грех”10 . Удивившись неестественному и странному поведению Семена Ивановича, который упорно, долго и даже жестоко ругал и поносил Зиновия Прокофьевича, жильцы решают над ним посмеяться, “наступить на Семена Ивановича гурьбою и окончательно” (I, 244), начав рассказывать ему неправдоподобные и нелепые слухи и толки. Интересно, что выйдя из-за ширм к жильцам, Прохарчин, ведомый нарастающей подозрительностью и обеспокоенностью за сохранность своего “капитала”, волей-неволей втягивается неожиданно для себя в жизнь окружающего мира и людей; “размыкается” его круг отъединенности от ближнего, когда он “полюбил вдруг обо всем узнавать, расспрашивать и любопытствовать” (I, 244). Получеловек-полукукла как будто бы начал “оживать”, хотя бы внешне. Не случайно рассказчик впервые упоминает о внешности своего героя, который вдруг “переменил физиономию: лицо стал иметь беспокойное, взгляды пугливые, робкие и немного подозрительные; стал чутко ходить, вздрагивать и прислушиваться и, к довершению всех новых качеств своих, страх как полюбил отыскивать истину” (I, 245). Но несмотря на эти, пока чисто внешние изменения, Прохарчин зачастую походил пока-таки “более на тень разумного существа, чем на то же разумное существо” (I, 245).
И вот наступил “пик” подозрительности и непонятного, загадочного страха Прохарчина: в одно прекрасное утро он, надев шинель, исчез из канцелярии “на неопределенное время” (I, 246). Прохарчин достигает последнего рубежа, последней ступеньки выхода в большую жизнь, в людской жизненный водоворот. И эта встреча с настоящей жизнью и общение с людьми, с “густой толпой” народа, которая “гремела и гудела” на пожаре в Кривом переулке, стоила бедному Прохарчину жизни (1, 250). Последним толчком к исчезновению героя послужили лживые истории об “исчезновении и упразднении канцелярии”, рассказанные ему попрошайкой-пьянчужкой Зимовейкиным, “человеком совсем скверным, буйным и льстивым” (I, 247). С пожара приносит Прохарчина в полубессознательном состоянии ночной ванька-извозчик. Характерно, что рассказчик подчеркивает не внешние причины беспамятства Семена Ивановича, а внутренние, нравственные: все увидели, что “хмелю тут не было, да и кондрашка не трогал, а был другой какой ни есть грех, затем что Семен Иванович и языком не ворочал, а как-будто судорогой его какой дергало, и только хлопал глазами, в недоумении уставясь то на одного, то на другого...” (I, 248). Как-будто грех Прохарчина и физически мучает его: тело судорогой дергает, а глазами “только хлопает”, они никак не могут пока окончательно открыться, мы не видим даже, какого они цвета... Но это уже телодвижения не “пульчинеля”, куклы, а кого-то живого, вернее, “оживающего”... Процесс “пробуждения” “внутреннего” человека, совести Прохарчина начинается с “пробуждения” его физического тела, вслед за которым должна проснуться и душа, и совесть героя. “Пожар, — по справедливому замечанию Н.В. Черновой, — становится метафорой высшей точки движения, переходящего в горение”11 . “Реальный пожар в рассказе причудливо трансформируется в фантасмагорический сон-бред Прохарчина о пожаре, который сменяется обыкновенной горячкой-болезнью героя. И во сне у Прохарчина неожиданно пробуждается чувство вины за свою жадность и скопидомство, отгороженность от мира и людей, неожиданно на него находит прозрение, “пробуждается” его совесть и будто “открываются глаза” на свои грехи.
“Если откроешь ему (человеку с “заглушенной” совестью — О.М.) глаза, — поясняет Паисий Святогорец, — у него проснется совесть. Совесть начнет его обличать. И если такой человек не смирится, то он может дойти до отчаяния, поскольку истина будет ему не по силам. Однако если он смирится, то (знание истинной причины его страданий) ему поможет”12 .
Используя возможности сна как художественного приема, Достоевский создает гротескные образы, где символическое начало проступает через реальную основу и “обличает”, “кричит”, напоминая Прохарчину о собственном грехе сребролюбия и эгоистической замкнутости: это и “фигура того старика с геморроидальным лицом”, стремящегося к дому, “где горели у него жена, дочка и тридцать с полтиною денег в углу под периной”; это и “бедная, грешная” баба, для которой дети и “два пятака” равнозначны, и которая “выпала” из всего “Божьего мира”, подобно Прохарчину с его ширмами как эмблемой отъединенности; это и “тот самый извозчик”, которого Прохарчин ровно пять лет назад надул бесчеловечным образом, ускользнув от него до расплаты в сквозные ворота” (I, 251). При виде чужих страданий во сне и подобных его грехам грехи людей к Прохарчину приходит ощущение вины, в нем просыпается совесть13 . Знаменательно, что Достоевский, как бы подводя итоги прежнего существования “внешнего” человека, человека-куклы с “заглушенной” совестью, сравнивает Прохарчина, которого уложили после болезни-горячки в постель, с “пульчинелем”, прямо указывая на “кукольность” героя, восходящего к театру Петрушки. Семена Ивановича уложили в постель, “подобно тому, как укладывает в свой походный ящик оборванный... артист-шарманщик своего пульчинеля, набуянившего, переколотившего всех, продавшего душу черту и наконец оканчивающего свое существование до нового представления в одном сундуке вместе с тем же чертом, с арапами, с Петрушкой, с мамзель Катериной и счастливым любовником ее, капитаном-исправником” (I, 151-152). Это сравнение Прохарчина с “пульчинелем” указывает, кроме всего прочего, еще и на “мертвенность”, “очерствелость” души героя, “заглушенную” совесть его и “засаленность” сердца. После болезненного кризиса “ветхий” и “окамененный” Прохарчин будто “выдохся”, “истощился”, произошло “пробуждение” “внутреннего человека” в нем, пробуждение его совести. Внешним проявлением этого стали “очистительные” слезы героя Достоевского: “Дробные слезы хлынули вдруг из его блистающих лихорадочным огнем серых глаз” (I, 257). “Слезы, — по словам преподобного Исаака Сирина, — это признак Божьей милости, которой сподобилась душа в покаянии своем”14 . “В слезах, в страдании истекает наша плоть земная, — пишет схиигумен Савва, — и рождается тело духовное, плоть ангельская... Дар слез — это путь постоянного покаяния во грехах... отречения от самоволия, смирения себя всеми способами”15 . Удивительно, что глаза героя Достоевского наконец-то обрели цвет — они стали “серыми”, живыми, не “хлопающими”, а “блистающими огнем”, пусть и “лихорадочным”. “Серые глаза” — это страдающие глаза живого человека! Последующие вслед за этим причитания Прохарчина, конечно, нельзя назвать настоящим покаянием, но важно то, что герой Достоевского впервые просит прощения у всех, он публично причитает-кается: “Костлявыми, исхудалыми от болезни руками закрыл он свою горячую голову... и, всхлипывая, стал говорить, что он глупый и темный (пришло осознание своей греховности. — О.М.), чтобы простили ему добрые люди, сберегли, защитили, накормили б, напоили б его, в беде не оставили...” (I, 257). (Не презрение и равнодушие, а сожаление и любовь к людям, просьба о помощи и сострадании, почти осознание себя “братом” всех людей. — О.М.). “Чудесным” образом вслед за этим подобием покаяния одного человека “всем стало жалко, глядя на бедного, и у всех умягчились сердца” (I, 257). Один человек своим покаянным плачем повлиял на всех, все жильцы “впали в добродушие” и начали оказывать помощь Прохарчину.
В итоговых рассуждениях жильцов мы слышим и голос самого автора: с чего же вдруг заробел Прохарчин? Неужели забоялся, “что на свете вдруг стало жить тяжело!.. А не рассудил человек, что и всем тяжело!” (I, 257). Вот спасительный “выход” в жизни Прохарчина — не закоснение в грехе, а смирение, к которому приводит рассуждение о том, что не один он на свете, что и всем тяжело, что земные страдания — общий крест людей, общая доля... Действительно, “истина оказалась не по силам” господину Прохарчину, смирение оказалось далеким от него, и пробуждение совести не просто “довело его до отчаяния”, а стоило ему жизни. “Разбуженный” герой умирает.
Пусть герой Достоевского не успел по-настоящему покаяться и принести “плоды покаяния”, но он успел осознать свою вину и греховность, совесть его оказалась не “искаженной” окончательно, до полного бесчувствия, а лишь “заглушенной” послегреховными радостями безмятежной жизни, она оказалась еще способной к “пробуждению”. Очищение души героя Достоевского все же началось: он “сознал в себе человека, “внутренний” (т.е. духовный) человек оказался не задавленным “внешним” (т.е. душевно-телесным) окончательно. “Трагедия” и “мученичество” “заглушенной” совести господина Прохарчина закончилась все же ее “пробуждением” навстречу совести “спокойной”, несущей, по словам Паисия Святогорца, “внутреннюю радость..., торжество и праздник”, несмотря на смерть героя. Глубоко символичен в этом отношении финал рассказа: “В лице его (Прохарчина. — О.М.) появилась какая-то глубокая дума... Он как будто поумнел. Правый глазок его был как-то плутовски прищурен; казалось, Семен Иванович хотел что-то сказать... Я, то есть, слышь,... вот умер теперь, ... то есть оно, пожалуй, не может так быть, а ну как этак, того, и не умер — слышь ты, встану, так что-то будет, а?” (I, 246). Возможно, двойственность финала рассказа Достоевского и следует понимать как смерть “внешнего” человека, “опытного, тертого капиталиста” (I, 262)-накопителя господина Прохарчина, но душа его, очистившаяся от греха, жива и бессмертна16 .