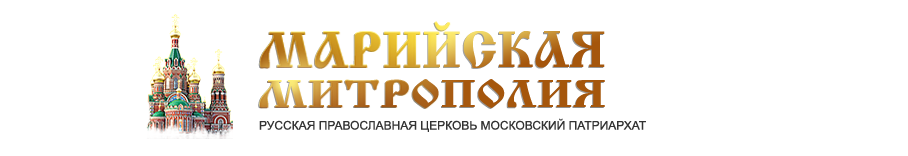Махновец Татьяна Александровна,
доцент кафедры русской и зарубежной литературы МарГУ
Полнота как ценность в поэтике средневековой русской литературы
Поэтика древнерусской литературы не может считаться областью, которой не уделялось внимания отечественной и зарубежной наукой: в медиевистике второй половины XX века сложились вполне определенные представления о специфике средневековой литературы, типе ее развития, системе жанров, характере обобщения, необходимых для него художественных средствах. Представления эти дополняются и уточняются в новейших исследованиях.
Настоящая работа и является попыткой ряда некоторых уточнений с выдвижением на первый план аксиологического аспекта, что вызвано не чисто научными задачами. Внимание к ценностям, сохранившимся в литературе средневековой, православной в своей основе, исходит из чувства необходимости противостояния тому процессу размывания — вплоть до исчезновения — ценностных ориентиров, которым ознаменовалась эпоха постмодернизма, выдвинувшая специфическую категорию интересного1 в противовес истинно значимому. Именно в этих условиях наметилась тенденция к недооценке истории отечественной литературы, которая проявилась в значительном сокращении соответствующего университетского курса, в формулировках некоторых программ по основам православной культуры, где слово литература встречается редко: предпочтительней для составителей оказалась замена его понятием письменная культура. При такой формулировке снижается внимание к особенностям поэтики, связанным с православным мировоззрением, внимание к слову. Заниженной предстает оценка не только роли литературы, ее особого места в русской культуре, но и роли языка, сохраненного памятниками литературы. И это — при общей картине катастрофического обеднения языка. Разрушение же языка представляет собой угрозу ментальности, что убедительно показано В.В. Колесовым, определившим ментальность как “миросозерцание в формах родного языка, соединяющего в процессе познания интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях”2 . Стоит напомнить, что такая формулировка самим ученым прямо противопоставлена достаточно распространенным представлениям о ментальности как сфере неопределенной и даже неопределимой (с акцентом на сферу коллективного подсознательного)3 .
В поэтике древнерусской литературы основополагающим считается характер соотношения в ней временного и вечного (с главенством вечного). Привычность этого положения нацеливает на противопоставление вечности времени (с преобладанием количественных отношений) и образование стойкой дуальной оппозиции, содержание которой как бы не требует раскрытия, поскольку оппозиционная пара “вечное — временное” накладывается в трактовке современной культурологии на другую, столь же устойчивую: “сакральное — профаническое”4 . При этом механизм дуализации рассматривается как “культурно-антропологическая данность, которая перманентно действует в человеческой ментальности”5 и является основой культуры. Средневековая же литература сохранила иное представление о вечности.
Можно сказать, что вечность в ней предстает как полнота бытия6 . Это выражено в языке принципом градуальности, обнаруженным В.В. Колесовым7 . В литературе ему соответствует иерархический принцип в качестве структурообразующего. Следует отметить, что слово иерархия здесь может быть употреблено в своем главном и истинном значении: как “священноначалие”, а не как “субординация”. К сожалению, понимание иерархии как субординации встречается достаточно часто; но различение этих понятий сделано В.С. Непомнящим на материале творчества А.С. Пушкина, при этом исследователь убедительно показал, что гармоническая цельность мира8 , воплощенная в произведениях Пушкина, основой своей имеет иерархию в качестве главного принципа организации художественной системы.
Ценностный характер представлений о полноте в древнерусской литературе не является собственно национальной чертой этой молодой литературы. Он восходит к новозаветным текстам, к Псалтири, которая всегда была одной из самых читаемых книг на Руси. В церковнославянском тексте Библии употребляется существительное исполнение: “отъ исполнения его мы вси прияхомъ” (Ин. 1, 16), “исполнение исполняющего всяческая во всехъ” (Еф. 1, 23), переводится оно словом полнота. Значение наполненности передается глаголом исполнить, -ся. Содержание его имеет не только положительный характер: “исполняяся премудрости” (Лк. 2, 40) растет Иоанн Предтеча, но “исполнишася … ярости” (Лк. 4, 28) те, кто упорствует в неверии. Материал настоящего исследования ограничен положительным содержанием слов со значением полноты. Оно встречается в тех случаях, когда в произведениях древнерусской литературы звучит похвала. О весеннем прилете птиц, совершающемся “Божиимъ повеленьемъ…”, Владимир Мономах говорит словами радостного благодарения: “…да наполнятся леси и поля”. При вступлении князя в поход употреблено выражение “наплънився ратнаго духа” (“Слово о полку Игореве”); красота и богатство родной земли выражены словами: “Всего еси испольнена” (“Слово о погибели Русской земли”).
Полнота имеет выраженный ценностный характер в памятниках литературы XI-XII веков, выступая как категория, объединяющая аксиологическое с эстетическим и онтологическим, в чем может быть усмотрено прямое продолжение традиций византийской литературы9 как литературы православной. Эта традиция в произведениях домонгольского периода обнаруживает себя в радостном чувстве благодарности, вызванном полнотой благодати, “покрывшей” Русскую землю в крещении (“Слово о законе и благодати”), полнотой “чудес и доброт” мира Божиего (“Поучение Владимира Мономаха”), его упорядоченностью, “устроенностью”. Впечатление полноты достигается не многословностью, а средствами высокой словесности, восходящими к Псалтири. Среди них должен быть назван параллелизм членов, позволяющий, по наблюдениям Е.М. Верещагина, “видеть смысловую близость слов”. Д.С. Лихачевым применялся термин стилистическая симметрия для этого типа повторов, но Верещагиным, при краткости раздела, посвященного параллелизму, сделан выход к еще одному художественному средству, широко представленному еще в Псалтири, — к такой совокупности “сродственных слов (и устойчивых словосочетаний), которая вербально покрывает определенный фрагмент как материальной, зримой действительности, так и идеального, мыслимого мира”10 . Такое лексическое поле объединяет синонимы, антонимы, и “слова одной и той же тематической принадлежности (очи, уши, ноздри, уста)”11 .
Исследователем в его сжатой по объему книге не ставилась задача выявления этой традиции, особенностей ее существования, возможного развития в литературе уже национальной русской. Такого рода работа, проделанная на материале разных произведений — разных по времени возникновения, по жанру, стилю, — убеждает в том, что русские книжники широко использовали возможности лексических полей и возможности активизации читательского восприятия. Разумеется, такая активизация была достижима только при достаточной начитанности человека.
Полнота благ, дарованных человеку Творцом, — это постоянная тема красноречия, занимающего в средневековой системе жанров важнейшее место. Само слово здесь исходит “от избытка сердца” (Лк. 6, 45). Образованием лексического поля достигается впечатление целостности при строгом отборе немногих составляющих. В “Слове о законе и благодати” о Киеве сказано так: “град, иконами святыихъ освещаемь и блистающеся, и тимианомъ обухаемь, и хвалами божественами и пении святыими оглашаемь”12 . Блистание икон, благоухание фимиама, церковные песнопения… Для того, чтобы выявить слова одной тематической принадлежности слушатель должен выполнить некоторую работу, при этом “освещаемь” и “блистающеся”, “хвалами” и “пении” обнаруживают свою синонимичность также в определенном контексте.
В “Слове о погибели Русской земли” “многие красоты” этой земли занимают лишь несколько строк. Перечислено значимое, ценностно окрашенное. Особенно характерно в этом памятнике соотношение сакрального и профанного. Как уже говорилось, современными культуроведами эта оппозиция выделяется в качестве одной из самых устойчивых в традициях смыслополагания. Но в древнерусской литературе далеко не всякое произведение обнаруживает тенденцию к поляризации сакрального и профанного. В “Сказании о Борисе и Глебе” они образуют оппозиционную пару: “мирская слава” трактована здесь как ценность мнимая. Характерно, что неизвестным автором тоже используется принцип образования лексического поля: “Чьто бо приобретоша преже братия отьца моего или отьць мои? Къде бо ихъ жития и слава мира сего, и багряница и брячины, сребро и золото, вина и медове, брашьна чьстьная, и быстрии кони, и домове красьнии и велиции, и имения многа, и дани, и чьсти бешисльны, и гърдения, яже о болярехъ своихъ? Уже бо все се имъ, акы не было николиже: вся съ нимь ищезоша”13 . Общее понятие “слава мира”, предстающее с достаточной полнотой, далекой от истинной полноты вечности, складывается из вполне конкретных составляющих (на основе дедукции, характерной для средневековой литературы), но все, что ценилось князьями-язычниками, для святого князя Бориса “хуже паучины”14 при мысли: “камо имамъ приити по ошьствии моемь отсюду”15 . Мирская слава является ценностью мнимой при всей материальности, конкретности составляющих ее: все в ней от “гърдения”.
Но в “Поучении Владимира Мономаха” структурным стержнем произведения является не полярность противопоставленных начал (с оппозицией вечного временному), но иерархический принцип в качестве структурообразующего, что выявляется вполне определенно (с использованием при этом разграничения иерархии как священноначалия и субординации как более условной). Он обнаруживает себя в композиции произведения, где хвала Творцу предваряет поучение детям, а заметки автобиографического характера дают конкретные примеры, подтверждая справедливость советов детям и возвращая читателя к мысли о Промысле. Временное не отбрасывается, но подчиняется вечному. Предельная конкретность советов объясняется заботой о должном в этой жизни, предваряющей вечную, являющейся тем путем, который нужно пройти осознанно, не ленясь и безбоязненно. Иерархический принцип обнаруживается и в характере лексики; известно увеличение доли русизмов по мере движения от высокой тематики к более житейской.
“Слово о погибели Русской земли” дает образ пространства, в котором нет оппозиции сакрального и профанного, вечного и временного. Рядом с озерами и реками названы “кладязи местночестьные” (местночтимые святые источники); за полями и дубравами названы звери и птицы (в них обитающие), следом за городами великими и селами дивными — “винограды обительные” (монастырские сады) и “домы церьковныя”. Порядок, по-видимому, в последнем случае объясняется тем, что пустынножительства еще не было: монастыри и храмы находятся в городах и селах. Упоминание князей грозных, бояр честных и вельмож многих здесь не связывается с греховным “гърдениемъ” князя, заботящегося о своем почете. Князь — защитник русской земли, бояре честные упоминаются в литературе рядом с князем обычно в качестве “думающих”. Вельможи многочисленны — земля предстает как населенная и имеющая защитников. Как известно, перечень завершается выводом, в котором звучит радость: “Всего еси испольнена земля Руская, о правоверьная вера хрестияньская”16 . Вера христианская и земля русская здесь выступают в нераздельном единстве, которым и достигается полнота.
Здесь также можно говорить о некоей “сродственности” слов и устойчивых словосочетаний (они устойчивы уже на русской почве), которой создается целостный образ действительности зримой, но светлой, высветленной именно пронизанностью всего значимого священным — освященностью земного, как в образе Киева-храма.
Краткость, точный отбор составляющих картины родной земли обеспечивают ощущение простора, имеющего ценностную окрашенность в русской культуре.
Эти традиции сохранялись позднейшей русской литературой. А.С. Пушкиным в “Сказке о царе Салтане” несколькими строками дана полнота картины мира Божьего со всем необходимым для человека: небо, море, “холм в широком поле”, “дуб зеленый над холмом” да “со креста снурок шелковый”. Есть все, что нужно для победы над проявлением зла в этом просторном (раздольном) мире, для того, чтобы мог появиться город “с златоглавыми церквами, с теремами и садами” (образ сада восходит к представлениям о райской полноте), где “хор церковный Бога хвалит”, где — в соответствии с устроенностью этого мира — Гвидон княжит “с разрешения царицы”. Произведения Пушкина читатель принимает, “узнавая” известное. Как и в средневековой литературе, здесь главенствует не передача информации, а возбуждение ее в сознании читателя. Поэтому и восприятие творчества Пушкина столь различно в России и на Западе Европы.
Традиция восприятия целостности и полноты в их единстве сохраняется и в XX веке. Отсутствие простора связывается в русской литературе с нарушением цельности и единства мира, что приводит к тесноте, ощущаемой, например, лирическим героем А. Блока. “Страшный мир” страшен своей теснотой и “загроможденностью”, не оставляющий места человеку, но оставаясь при этом пустыней: утрата героем полноты бытия констатируется З.Г. Минц17 , которой принадлежат эти наблюдения.
Множественность не есть полнота, поскольку полнота не осуществима, не достижима без целостности и единства. Целостность — есть неповрежденность, но мир этот поврежден грехом; просветление его — цель, которая должна быть достигнута. В данном случае обоснованным представляется употребление термина иконосфера, который В.И. Мартынов18 применил по отношению к миру, преображенному обоженным человеком, миру, становящемуся иконой небесного мира. Обоженный человек предстает в литературе житийной.
Древнерусские жития святых говорят о возрастании духовном, о восстановлении целостности человека, нарушенной грехом. В агиографии представление о полноте бытия более всего связано с центральным в структуре жанра образом святого. Уже слово святой, по разысканиям В.Н. Торопова, обнаруживает значение возрастания, “увеличения”, а его употребление (“святая красота”, “святое место”, “святая правда”, “святое дело”) приводит исследователя к мысли о том, что русская версия святости включает в себя представления о том, что “все должно быть сакрализовано, вырвано из-под власти злого начала и — примириться с меньшим нельзя — возвращено к исходному состоянию целостности, нетронутости, чистоты”19 . “Труженичество” святого — это “подвиг”, т.е. движение вверх, противостоящее распаду, энтропии, “убыванию”20 . Искупительная жертва Христа, крещение, спасение, пример святого, не отступившего от заповедей Христовых — это содержание вступлений к ряду житий. “Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба”, созданное Нестором, не только определяет место святых князей в истории Руси, но и соотносит ее со Священной историей. Традиция сотериологического историзма продолжается и в произведениях агиографов более позднего времени, например, в житийной “Повести о Петре и Февронии Муромских”. О святых здесь сказано: “И елицы во Христа крестишася, во Христа облекошася. Аще ли же во Христа облекошася, да не отступают от заповедей Его … но яко же святии пророцы и апостоли, тако же мученицы и вси святии, Христа ради страдавше в скорбех, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениих, в трудех, во бдениих, в пощениих, в чищениих, в разуме, в долготерпении, во благости, в Духе Святе, в любви нелицемерне, в словеси истинне, в силе Божии, иже сведоми суть Единому, ведущему тайны сердечныя, ими же землю просветил есть, яко же небо звездами украси, и почтив их чюдотворенми, овых убо молитв ради, и покаяния, и трудов, овых же мужества ради и смирения, яко же сих святых прослави, о них же нам слово предлежит”21 .
Подробность перечислений — знак литературы более поздней, вобравшей в себя художественные средства, характерные для агиографии конца XIV — начала XV века, особенно для произведений, принадлежащих перу преподобного Епифания Премудрого.
Исследователями, писателями неоднократно отмечалась многословность писательской манеры Епифания. Сегодня она привычно объясняется напряженной эмоциональностью произведений, которая дала основание Д.С. Лихачеву для определения стиля “плетения словес” (так называли его современники и писатели следующих веков) как экспрессивно-эмоционального22 . Но Д.С. Лихачевым показана также и близость русского писателя к воззрениям болгарских книжников-исихастов, считавших слово и сущность неразрывными. Именно стремление к точности непосредственно, хотя и не слишком явно, связано с представлением писателя о необходимости полноты выражения содержания и самой сущности главного подвига святителя Стефана Пермского — христианского просвещения зырян (“пермских людей”). Писатель не просто перебирает сравнения ради украшенности жития (как это можно наблюдать в более светском памятнике — “Слове о житии и преставлении Дмитрия Ивановича, царя Русского”). Епифаний называет Стефана Пермского пророком, апостолом, законодавцем, крестителем, проповедником, евангелистом, святителем, учителем, страстотерпцем, пастухом, врачом, отцом, исповедником. Подробные пояснения сопровождают каждое наименование. Они свидетельствуют о чувстве писательской ответственности древнерусского агиографа. Полнота образа здесь не мыслится без предельной точности: не случайно автор вспоминает с укорением себе прежние споры свои со святителем Стефаном о каком-либо слове или строке.
Пророком автор называет своего героя только потому, что он “пророческая проречения протолковал”. Может быть, это уже и ненужное уточнение? Ответ, как думается, лежит в этом случае в сопоставлении произведений разных искусств. Житие нередко сравнивают с иконой. В данном случае объяснением череды деяний святого и аналогом житию является не житийная икона, а иконостас23 , с его зримым представлением глазам молящегося путей домостроительства Божия. От пророческого ряда (подзаконного), включая праздничный (тема крещения), деисисный, возможно, местный, охватывает приведенный выше перечень виды святости и этапы истории. Полнота деяний, полнота свершений ради спасения народа, пребывавшего в язычестве, — здесь и полнота историческая, если говорить не только о конкретных событиях, но учитывать тот сотериологический историзм, которым пронизана русская литература. Завершающие звенья перечня уже уточняют самое главное. Постепенное вовлечение в преображение людей и земли пермской (в житие входят плач пермских людей и плач пермской земли) убеждает и здесь в предпочтении принципа иерархии жесткой оппозиционности. Вечное является важнейшей ценностью, но время как бы служит вечности. Длительность ценностью не является: Епифаний сравнивает долгую жизнь без наставника с бурным “смятущимся” морем, пространность которого пугает человека.
Наблюдения, касающиеся характера трактовки полноты как ценности в литературе Древней Руси позволяют сделать вывод, выходящий за рамки собственно литературоведения: представление о русской культуре как основанной на полярных началах, чрезвычайно распространенное в современной культурологии, может быть откорректировано обращением к литературе средневековой, в поэтике которой принцип иерархичности, связанный с представлениями о полноте и целостности, занимает главенствующее место в сравнении с дуальными оппозициями.