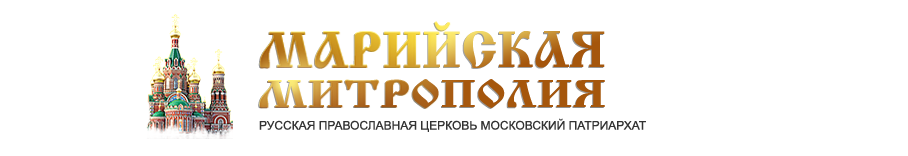Церковнославянский язык — язык духовного откровения и речевого величия
Церковнославянский язык есть словесная икона,
“иконописцем” которой является Дух Святой.
А. Камчатнов.
Сталось так, что весна — это не только пора обновления в природе и ее благоухания, но еще и знаменательная веха в истории Православия; и, согласитесь, разве не пришла весна в душу каждого православного христианина, когда наши великие духовные учители равноапостольные Кирилл и Мефодий даровали славянскому миру родную им азбуку, и зазвучало на славянском наречии великое слово Священного Писания: Въ начале бе Слово и Слово бе къ Богу и Богъ бе Слово (Ин. 1, 1).
Семя знаний, брошенное в благодатную почву солунскими братьями вот уже более тысячи лет назад, дало богатые духовные всходы на ниве Православия. И по всем славянским и российским градам и весям усилился многократно свет знаний, разносимых великими славянскими просветителями на взращенной ими азбуке и светоносном языке богослужения.
А церковнославянский язык, у основания коего стояли Кирилл и Мефодий, язык особенный, это высокий литературный слог духовной молитвы во всей ее чистоте помыслов и звучания. Вот уже свыше тысячелетия наша Русская Церковь хранит и оберегает великое дарование — свою языковую традицию, в которой спрессованы века и единение всех славянских православных народов, а также духовное наследие всех минувших поколений, вплоть до времен Кирилла и Мефодия.
Оставаясь в славянском мире языком литургическим, церковнославянский язык всегда оказывает да и будет оказывать впредь благотворное влияние на все ныне здравствующие славянские языки, оберегая их от мутной волны бездумных заимствований англо-американизмов. Он, язык богослужения, помогает славянским народам из века в век сохранять духовную, национальную культуру, национальную самобытность. И разве не актуально звучит и сегодня давняя крылатая фраза М.В. Ломоносова: “Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердиться, коль долго Церковь Российская славословием Божиим на славянском языке украшаться будет”1.
1.
Да, церковнославянский язык — язык особенный: он специально создан для высшей цели — церковного, молитвенного Богопрославления, совершения Таинств в храме; это язык Божественного Откровения; потому-то и стал он языком сакральным, священным.
С самых истоков церковного языка его создатели стремились сделать его совершенно особым, резко отличным от языка разговорного. В этом они были воистину верными сынами Церкви.
Язык этот никогда не был “живым”, разговорным языком славянских народов, как это полагают сторонники русификации богослужения. Правы отечественные богословы, “не человеческое творение он [церковнославянский язык]: Дух Святый осенял Кирилло-Мефодиевское начинание, которое трудно назвать “переводом”, в такой мере было оно одновременно и созданием языка, на котором воспроизводилось в совершенной точности греческое слово Божие… Это единственное в мире явление, когда язык возник, нарочито создаваемый для того, чтобы быть словесным одеянием, словесным выражением, словесной плотью богомыслия, в частности, богослужебного славословия”2.
Но церковнославянский язык — это еще и фундамент русской культуры, важнейшая часть современного русского языка, являющая собой в нем духовность, строгость и чистоту. Все, кто основательно изучал историю русского литературного языка, знают, что он возник благодаря тому, что к благородному божественному корню славянского языка был привит дичок русского слова, которое, однако, было “и собственным достатком велико” (Ломоносов). “Славянский язык — лоза, а русский литературный язык — ветвь, привитая к лозе; эта ветвь дала обильные плоды древней и новой (классической) русской литературы. Велик и могуч язык русской литературы, но не надо забывать, что велик и могуч он благодаря своему корню”3.
Сверкающие струи русского языка с надежными в нем генами языка церковнославянского из века в век омывают материк с именем Россия. “Да, бывали погружения в пучины истории, но Россия не потерялась в них, как Атлантида, а обрела хранителя: в глубинах Светлояра сияет град Китеж и хранит душу России”4. И тут велико, непреходяще значение кириллицы, несущей в себе особый код нашей культуры и христианской духовности.
Недавние исследования бельгийского ученого Ф. Винке показали, что в кирилловской азбуке, в единой системе ее символики заключен особый смысл религиозного, мировоззренческого значения. “Каждая новая буква, — пишет он, — хранит первичный замысел своего создателя, содержит глубокий смысл и отражает религиозное мироощущение, мистическую интерпретацию каждого символа”5. Каждая буква вносит в порождаемые слова Божественную силу и свет.
В таком толковании Ф. Винке слышится прямая перекличка с учением сербского богослова и лингвиста ХV века Константина Костенечского. В своей “Книге о письменах” (написана после 1410 года), самом объемном из известных рукописных славянских сочинений о языке, он утверждает, что “все явленные в Откровении знаки, включая графические знаки Писания, становились не только символами истины, но и ее составными частями”. Грозя анафемой, Константин прямо связывает с ошибками в письме “уклонение в ересь”. В частности, в написании единороднiи вместо единородныи он видит не просто смешение букв I и Ы (вообще типичное для сербско-болгарского извода церковнославянского языка), но ересь (поскольку единородныи — это форма единственного числа, а единороднiи — множественного, при том, что речь идет об Иисусе Христе, Единосущном и Единородном Сыне Божием): Единемъ симъ писменемъ… являеши несторiеву ересь въ две лици Бога секуща”6. Вообще для Константина Костенечского и его последователей в церковнославянской письменности орфография — это главный объект внимания; с ней они связывали правильность священного текста и чистоту веры.
Строго охранялась законом неприкосновенность богослужебных книг. Например, “Стоглав” (свод постановлений церковного собора 1551 года, содержал сто глав, отсюда и его название) обязывал сверять каждую новую книгу с исправным оригиналом и конфисковывать книги неисправные. А старинные руководства по орфографии часто заканчивались предостережением: “Зри прещение страшно: аще кто написав книгу и не исправя принесть на собор, да будет проклят”7. Так, очень известный книжник поры средневековья Максим Грек (1475-1555) при переписывании одной богослужебной книги заменил одно из прошедших времен (аорист) другим прошедшим временем (перфектом), за что был подвергнут церковному суду, поскольку при таком выборе глагольных времен о Христе говорилось как преходящем, временном, а не вечном.
В византийской и церковнославянской письменности сами сокращения святых слов и даже титла (“взметы”) над ними были осмыслены как знак святости и “прикровенности”, и это стало единственно допустимой записью священных письмен. Так, в орфографических сочинениях ХVI-ХVII вв. правило о титле (“взмете”) самое частое. Вот пример одной из его наиболее встречаемых формулировок: “стсть [святость]… подобаетъ писати съ разумомъ и почитати взметомъ iли покрытiемъ якw венцемъ слвы [славы] во образъ будущаго воздаванiа стымъ”; “мтрь бжiю мрiю и мчнковъ хртовыхъ [Матерь Божию Марию и мучеников Христовых] подъ взметомъ пиши”8. В некоторых руководствах той поры указывалось, что слова ангелъ, апостолъ, архiепископъ, написанные без титла, означают ангела или апостола сатаны. Эти слова, говорилось далее, “отнюдь не покрывай, но складомъ пиши, понеже враждебно Божеству и человеческому естеству”9. Поэтому в миру люди верили в святость и оберегающую силу церковных букв, в спасительность записанного Божиего имени и вкладывали записанные молитвы в ладанки10.
Такая высокая забота Православной Церкви о языковой и орфографической ортодоксии не случайна: это стало отражением исторических внутрицерковных событий. Судьба славянских народов сложилась так, что они оказались разобщенными на два христианских мира: в сферу западнохристианского (позже — католического) влияния и латинского языка вошли поляки, чехи, словаки, хорваты, словенцы, образовав ареал Slavia Latina, а болгары, сербы, черногорцы, русские, украинцы, белорусы, исповедовавшие Православие в его византийской редакции, образовали другой ареал — Slavia Orthodoxa. В их церковно-книжной культуре в большом почете стал греческий язык и вообще греческое начало, а языком богослужения — церковнославянский (в прошлом его чаще называли славенским или словенским). Именно в ту пору и были заложены основы высокого почитания церковной орфографической ортодоксии, которую как святое наследие бережно хранит Русская Православная Церковь.
“В ареале Slavia Orthodoxa Русская Церковь, русская культура и Русское государство сделали больше всех для сохранения церковнославянской книжности. Здесь больше, чем в других славянских землях, церковнославянский язык был “своим” — органичным языком своей Церкви, своей письменности и школы. Из всех славянских языков русский язык более всех испытал влияние церковнославянского языка и в наибольшей мере наследует стилистические традиции церковнославянской книжности”11, что объясняется глубоким своеобразием России: “Церковнославянская литературно-языковая традиция утвердилась и развивалась в России не столько потому, что была славянской, сколько потому, что была церковной”12.
Однако в современном языкознании — включая и отечественное — получила утверждение теория об условности, конвенциональности языкового знака, став в буквальном смысле слова предрассудком массового сознания толкователей и законодателей языка. А это нашло конкретное выражение в первую очередь в учении швейцарского языковеда Фердинанда де Соссюра (1857-1913). В основу его учения было положено протестантское богословие, психологизировавшее все духовные, интеллектуальные и языковые явления, в результате чего установилось поверхностное понимание языка как чего-то внешнего по отношению к мысли и духу, как внешней их словесной одежде, которая может быть той или другой; более того, были искусственно расчленены и отделены друг от друга речь и язык, всегда выступающие в слове как единое целое.
Православная же теория утверждает иной онтологический статус языка: в соответствии с нею язык есть язык Самого Бога и мира, а отдельные человеческие языки суть приемники Божественных энергий, среда, в которой происходит встреча человека с Богом и миром. Именно церковнославянский язык стал таковым в Русской Православной Церкви и русской культуре, и в этом его непреходящая ценность13.
“Язык церковнославянский, уже много веков имея единственной задачей выражать Божественное учение и повествования о Домостроительстве Божием, совершенно сроднился с тем, для выражения чего он служит, и воспитанный на нем народ особенно восприимчив к тому, что он выражает, и в самом его звуковом составе, в движении речи чувствует этот высший смысл, слышит голос Божий, сам к Нему веками на этом языке обращается и усвоил то убеждение, что славянский язык есть орудие, средство общения с Богом. Церковнославянский язык как бы впитал в себя свойства священного текста и самим своим видом письмен, всем строем и духом влечет в горний мир божественных созерцаний и христианского подвига”14.
И поскольку церковнославянский язык — это язык православного богослужения во всем славянском мире, ныне этот факт приобретает не только особое общецерковное, но, если хотите, и нравственно-политическое значение. В нынешнюю тревожную пору, пору усиления разрушающих сил многочисленных антиправославных сект и конфессий западного инославия, нельзя утрачивать ни одну из нитей, связующих целостность православного мира. Единый язык славянского Православия при нынешней обстановке распада прежних общественных и братских связей является, быть может, самым основным стержнем связи славянской цивилизации и прочности православного мира, вступившего в свое третье тысячелетие.
Нельзя не отметить известный парадокс во взаимоотношениях церковнославянского и русского языков. “В самом деле, почему из всех славянских языков самое большое воздействие церковнославянский оказал именно на русский язык, при том что в генеалогическом отношении это не самые близкие языки?” — задает вопрос Н.Б. Мечковская, автор книги “Язык и религия”, — и отвечает: “Объяснение парадокса не в генеалогических языковых аномалиях, а в исторических судьбах народов”15. И в самом деле, после того, как пала Византия и на Балканах установилось Османское иго, центры Православия переместились на славянский Восток. Именно Русская Православная Церковь и Русское государство (с его идеологией “Москва — третий Рим”) оказались главными хранителями церковнославянской книжной культуры Православия.
2.
Надо сказать, что догматических и канонических запретов на богослужение на родном языке в Православной Церкви не существует: и нет ничего непозволительного в том, чтобы перевести богослужение и на современный русский язык. Однако “все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает” (1 Кор. 10, 23). Эти апостольские слова вынуждают всех нас задуматься над духовными последствиями такого перехода. Великий русский мыслитель М.В. Ломоносов, пожалуй, первым всерьез задумался над ролью славянского языка в русской культуре. В знаменитом Предисловии “О пользе книг церковных в российском языке” он оценивает эту роль как весьма благодетельную. Да, именно благодаря церковнославянскому языку было обеспечено единство русского языка и русской культуры. И именно благодаря ему были во многом замедлены и приостановлены процессы диалектной дифференциации русского языка. Потому-то, как писал Ломоносов, “народ Российский, по великому пространству обитающий, невзирая на дальнее расстояние, говорит всюду вразумительным друг другу языком в городах и селах”16. Именно славянский язык замедлил и процессы исторического развития русского языка, благодаря чему, по словам Ломоносова, “Российский язык от Владимира до нынешняго веку, больше семисот лет, не столько не отменился, чтобы стараго разуметь не можно было…”17
О судьбах русского литературного языка глубинно-емко писал и А.С. Пушкин: “Как материал словесности язык славено-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В ХI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя, таким образом, от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность” (статья “О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова”, журнал “Московский телеграф”,
Исследователи русского языка и русской словесности выделяют две существенные черты, названные здесь великим писателем: во-первых, “славенскость” (а точнее, “церковнославянскость”) русского языка, причем эту его черту Пушкин даже не обсуждает (это само собой разумеется), а в русской словесности видится ему язык славено-русский; во-вторых, Пушкин выделяет в нем “дары” языка греческого, который в ХI веке “вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии…”
Да, святые равноапостольные братья использовали для перевода именно “церковный византийский текст, который был под контролем Церкви и оберегался ею как нечто постоянное и неизменное, как сама истина, как церковно-текстуальное Предание, уходящее в апостольскую древность и недоступное для загрязнения человеческими мудрствованиями”18.
Именно он стал основой для напечатания в 1581 году полной Библии на славянском языке, в соответствии с выверенным текстом Священного Писания. Это имело особо важное значение в ту пору, когда “протестантские секты — плод эпохи Возрождения язычества — превращали христианство в систему философских построений падшего человеческого разума”19, и Русская Церковь начала длительную борьбу за сохранение чистоты веры, церковного языка и церковной культуры России.
Попытки деканонизации церковного текста Священного Писания и перевода богослужения на русский язык, к сожалению, не обошли и Россию. Сетуя на “малопонятность и туманность языка словеньского”, в 1683 году в Москве переводчик Посольского приказа Авраамий Фирсов “переложил” с польского на русский язык “Псалтирь”; однако эти переводы не были признаны Церковью.
В Петровскую эпоху за перевод Писания на русский язык ратовал сподвижник Петра I, глава его ученой дружины Феофан Прокопович (1681-1736) — православный иерарх, которого не раз упрекали в склонности к протестантизму. С ведома Петра создавался русский перевод Нового Завета, однако после 1705 года эта работа была остановлена.
И в послепетровское время, вплоть до 1858 года, Церковь и Синод пресекали все попытки перевести Писание на русский язык. Но в либеральные 10-е годы ХIХ века Александр I своей императорской волей разрешил начать работу над русским переводом Священного Писания. Одним из его аргументов была ссылка на авторитетную в Православии Греческую Церковь, которая разрешает народу читать “Новый Завет” в переводе на новогреческий20.
Лишь в 1825 году профессор Санкт-Петербургской Духовной академии, директор Русского библейского общества и царский духовник протоиерей Герасим Павский перевел несколько книг “Ветхого Завета”. Однако печатание было прервано, а экземпляры с “Пятикнижием Моисеевым” сожжены. На другого переводчика “Ветхого Завета” архимандрита Макария (Глухарева) была наложена епитимья.
Когда же в 1858 году с разрешения Синода работа над переводом Библии была официально возобновлена, то было твердо указано на недопустимость использования русского перевода в Церкви: “Перевод полезен, но не для употребления в церквах, для которых славянский текст должен оставаться неприкосновенным, а для одного лишь пособия к разумению Св. Писания”. И, как известно, лишь в 1876 году был осуществлен первый перевод Библии на русский язык.
Одним из острых вопросов, не раз приводивших к богословским конфликтам, был вопрос о том, с каких библейских текстов производить перевод. До тех пор русские переводчики обращались, помимо древнееврейских оригиналов, ко всем доступным древнейшим переводам — сирийским, арамейским, коптским и, конечно же, к “Септаугинте”, а также к “Вульгате” и Елизаветинской Библии. Однако в официальном богословии ветхозаветная часть русской Библии 1876 года определялась как “перевод с еврейского под руководством греческой Библии”21, новозаветная же ее часть именовалась “переложением со славенского”, а не с греческого, что, казалось бы, было наиболее приемлемым.
Вопрос о богослужении на русском языке горячо обсуждался в Русской Православной Церкви и в конце XIX века. А на церковном Соборе 1917-18 годов 80 % иерархов высказались за русификацию богослужения. В 20-е годы ХХ столетия, в пору великой церковной смуты, по стране прокатилась мутная волна обновленчества; сформировалось несколько церковно-обновленческих движений, среди коих особенно активной силой русификации богослужебных текстов была “Живая церковь”. Вот что писал, например, журнал живоцерковников “Церковное знамя” в своем первом номере 15 сентября 1922 года: “Мы желали бы произвести те или иные изменения в области церковных богослужений и требнике с допущением новых обрядов и молитвословий в духе Церкви Православной. Главным образом желательны изменения богослужебного языка, весьма во многом непонятного для массы. Эти изменения должны неукоснительно вестись в сторону приближения славянского текста к русскому. Обновление должно идти с постепенностью, без колебания красоты православного богослужения и его обрядов”.
Требование упразднения в богослужении церковнославянского языка с заменой его на русский содержалось и в программе “Союза общин древлеапостольской Церкви”, составленной лжемитрополитом Александром Введенским: “Мы стоим за очищение и упрощение богослужения и приближение его к народному пониманию. Пересмотр богослужебных книг и месяцесловов, введение древнеапостольской простоты в богослужении…, родной язык взамен обязательного языка славянского” (“За Христа”, 1922, № 1-2).
А вот текст резолюции, принятой обновленцами на съезде Союза “Церковное возрождение” в 1924 году:
“1. Переход на русский язык богослужения признать чрезвычайно ценным и важным приобретением культовой реформы и неуклонно проводить его как могучее орудие раскрепощения верующей массы от магизма слов и отогнания суеверного раболепства перед формулой. Живой родной и всем общий язык один дает разумность, смысл, свежесть религиозному чувству, понижая цену и делая совсем ненужным в молитве посредника, переводчика, спеца, чародея.
2. Русскую литургию, совершаемую в московских храмах Союза, рекомендовать к совершению и в других храмах Союза, вытесняя ею практику славянской, так называемой Златоустовой литургии”22.
Обновленческий раскол был изжит Церковью лишь в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны. Лишившись поддержки со стороны государства (а оно ввиду грозной военной опасности вынуждено было тогда сделать шаг в сторону примирения, а значит и навстречу подлинно национальной Церкви — Православной и Патриаршей), обновленческая группировка, никогда не имевшая опоры в народе, распалась. При этом правительственным распоряжением признавалось недопустимым богослужение на русском языке.
Однако обновленческие и реформаторские тенденции не утратили себя с исчезновением схизмы: в 1989 году на Церковь вновь обрушилась волна обновленчества. На почве современных модернистских идей, проникших в русское религиозное сознание и богословие в результате экуменических контактов с различными западными вероисповеданиями, заявило о себе современное неообновленчество с его зудом реформаторства; снова усилилось стремление заменить святоотеческое богословие работами модернистски ориентированных апологетов обновленчества — философа Н.А. Бердяева, протоиереев А. Меня, Н. Афанасьева, А. Шмемана и др. Делались попытки приспособить Церковь к служению духу мира сего ценой разрушения канонического строя и отказа от святая святых — Священного и Церковного Предания, перевода богослужения на современный русский язык и проповеди “единого христианства вне его конфессиональных перегородок”.
В последнее десятилетие минувшего столетия отрицание и разрушение укоренившихся традиций Русской Православной Церкви, отказ от церковнославянского языка в богослужении активно пропагандировало так называемое “Сретенское братство” во главе с шумливым обновленцем, священником Георгием Кочетковым. Вся внутрицерковная деятельность этого “Братства” была нацелена на раскол в Церкви и активную ревизию Православия, с превращением его фактически в модернистское неохристианство — своеобразный протестантизм “восточного обряда”.
Другим центром “неообновленчества” стал московский приход священника Александра Борисова, автора нашумевшей книги “Побелевшие нивы. Размышления о Русской Православной Церкви” (М., 1994), пропитанной духом протестантизма. В ней автор провозглашал явление некоего “нового христианства — не православного, католического или протестантского, но подлинно вселенского христианства. Христианства, так сказать, с человеческим лицом” (с. 105), ратуя при этом за “необходимость реформы внутри Церкви вообще и русификации богослужебного языка” (с. 133).
А рупором идей неообновленчества и реформации Православной Церкви явился “Христианский церковно-общественный канал” (радио “София”) во главе с протоиереем Иоанном Свиридовым. Здесь подвизались такие активные “реформаторы”, как священники Георгий Чистяков и Владимир Лапшин, отец Игнатий (Крекшин) и игумен Иннокентий (Павлов). Вот некоторые образчики их бесед с радиослушателями: “Нельзя превращать Церковь в гетто со средневековым миросозерцанием!..” (В. Лапшин) или “Церковнославянский язык — это церковная феня…” (Иннокентий Павлов)23.
В те же годы Россию захлестнул поток вульгарных антицерковных русских библейских переводов; кроме выполненных за границей “Слова Жизни” и “Благой вести от Бога”, появились “труды” Георгия Кочеткова (в том числе его книга “Православное богослужение: русифицированные тексты вечерни, утрени и литургии”, М., 1995), а также Леонида Лужовского, В.Н. Кузнецовой и др., радеющих о “библейском просвещении” России, лишенной его, по их словам, из-за “чуждого и непонятного народу церковнославянского языка”. Сюда же следует отнести и переводы игумена Иннокентия (Павлова) в газете “Сегодня”.
Вот как под пером новоявленных “ученых переводчиков Библии на живой современный русский язык” выглядят, например, новозаветные выражения. Сравните:
“Сие есть Кровь Моя Нового Завета” (Мф. 26, 28), но “Это Моя Кровь, кровь Нового Союза”.
“Приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него” (Мф. 3, 13), но “Появляется на Иордане Иисус из Галилеи, пришедший к Иоанну, чтобы тот его омыл”.
“друг мытарям и грешникам” (Мф. 11, 19), но “приятель сборщиков податей и прочего отребья”.
“Возьмите иго Мое на себя” (Мф. 11, 29), но “Наденьте на себя ярмо Моих Заповедей”.
“В начале было Слово” (Ин. 9, 11), но “Изначально был Тот, кто зовется Словом”.
Однако эхо модернизма и осовременивания языка церковной службы не утихло до сих пор. Вот один из образчиков взгляда современных обновленцев на язык богослужения: “Единственная оставшаяся функция церковнославянского языка не является культурно значимой в нынешнем секуляризованном плюралистическом обществе. Для языкового сознания людей церковных можно предположить наличие русско-церковнославянской диглоссии: для остальной части общества церковнославянский язык является языком совершенно чуждым и мертвым (?! — А.Л.)”24.
3.
Церковнославянский язык, вечно живущий в наших генах, — это наша нетленная гордость, наше великое духовное наследие, наша воистину духовная “икона”: храня историческое наследие народа нашего и нашей культуры, он по-прежнему устремлен в будущее. Его, как никакой из нелитургических языков, отличают многообразие, пластичность и совершенство грамматического строя, лаконизм и динамика синтетических структур, этимологическая глубина лексики, неповторимая выразительность и особая красота самого языка. А “сложность и гибкость глагольных форм славянского языка делают одну и ту же по словарному составу фразу то ажурно легкой, то до физически ощутимой тяжелой и твердой, как бы изваянной из мрамора. Лаконизм, внутренняя чеканность и в то же время как бы внешняя незавершенность и обрывистость предложений, часто без последовательных переходов от одного предмета к другому, выделяют смысловые паузы эмоциональным содержанием, подчеркивая, что богослужебный текст — это не монолог, а диалог, таинственная беседа души с Божеством… Говоря образно, динамика древних языков созвучна динамике света. Богослужение — это симфония из лучей Божественных энергий. Священная история изображается в этой Божественной симфонии на светящемся фоне Вечности, земные реалии — в их логистическом изображении”25. В том-то и суть основной причины сохранения церковнославянского языка в православном богослужении, что именно он более всего приспособлен для выражения явлений и динамики духовной жизни.
Итак, исторически сложилось так, что русский язык — и общенародный, и литературный — вобрал в себя значительный пласт церковнославянской лексики. А современный русский литературный язык формировался в ХVIII веке, и церковнославянизмы органично вошли в него в качестве высокого стиля и используются в нашей речи до сих пор, при этом не нуждаясь ни в каких переводах на современный русский. Так, пушкинское “Восстань, пророк, и виждь, и внемли” не нуждается в переводе, хотя в обыденной речи такие слова и грамматические формы не употребляются. По-русски мы бы сказали: “Вставай, пророк, смотри и слушай”. Однако, когда Пушкин обращается к пророку не по-русски, но по-славянски, выражаясь высоким слогом (“и виждь, и внемли”), он и сам начинает пророчествовать, воздымаясь на высоту, где уместен именно стиль высокий, библейский.
“Тому, что пушкинский текст пока в переводе не нуждается, мы обязаны “поддержке” литургического языка. Перевод богослужения на русский язык приведет к тому, что нашим правнукам придется читать литературу ХIХ века в переводе на адаптированном варианте”26. И как тут не согласиться со словами духовного писателя начала ХIХ века В.Ф. Певницкого: “В самом деле, не было ли бы странным для благоговейного чувства глубоко верующих, если бы церковные молитвы и песнопения, лишив облачения церковного языка, облекли одеждою простых речений нынешнего разговорного языка?”27
Русская литературная речь в меру и бережно пронизана церковнославянизмами, а “заимствования из церковнославянского языка в русском настолько органичны, настолько близки исконным (незаимствованным) словам и формам, что их “чужеязычность” не чувствуется говорящими. Для языкового сознания церковнославянизмы — это “свое”, но “особое свое”. Между тем, это все же заимствования…”28
Церковнославянизмы вошли также в плоть и кровь многих русских паремий (пословиц и поговорок) и устойчивых выражений. В “переводе” на современный лад они утрачивают не только свою “высокость”, но и саму семантику. Например, лексика пословицы “Устами младенца глаголет истина” полностью церковнославянская и по происхождению, и по набору слов, но, лишенная славянизмов, она сразу же “угаснет” и потеряет присущую ей афористичность: “Ртом ребенка говорит правда”. А, скажите, смирится ли благочестивое чувство православного верующего, коли, например, хорошо знакомый ему ирмос “Отверзу уста моя, и наполнятся Духа…” вдруг зазвучит перелицованным на современный лад: “Открою мой рот и наполню его воздухом”?
О богатой “пословичности” Священного Писания прекрасно сказано у Пушкина: “Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием”29.
Характерно, что говорящие в наше время порою и не догадываются о библейском происхождении некоторых употребленных ими выражений. Так, говоря ждать манны небесной, корень зла, зарыть талант в землю, не хлебом единым, соль земли, люди и не задумываются, что цитируют Библию; они просто говорят на языке, который вобрал в себя библейские образы, ставшие крылатыми.
И еще характерно, что фонд библеизмов в языках разных христианских народов в существенной мере совпадает по своей внутренней форме и образному стержню, разнясь лишь своею лексико-звуковой оболочкой. Так, церковнославянско-русскому выражению хлеб насущный в ряде европейских языков соответствуют: украин. хлiб насущний, белорус. хлеб надзённы, словен. vsak danji kruh, польск. chleb powszedni, чешск. chléb vezdejši или každodenni chléb, англ. daily brad, немец. täglich Brot. Словом, библейская образность стала общим культурным достоянием народов, исповедующих Священное Писание.
Вместе с тем церковнославянский язык осуществляет в русской культуре еще одну очень важную функцию — “барьерную”, выступая в качестве надежной преграды против раскультурирования современной России30. Заметим, что об этом же качестве церковнославянского языка более ста лет назад проникновенно писал И.В. Киреевский: “По необыкновенно счастливому стечению обстоятельств словенский [то есть церковнославянский] язык имеет то преимущество над русским, над латинским, греческим и надо всеми возможными языками, имеющими азбуку, что на нем нет ни одной книги вредной, ни одной бесполезной, не могущей усилить веру, очистить нравственность народа, укрепить связи его семейных, общественных и государственных отношений. Поэтому я думаю, что изучение его вместо утонченности катехизиса в русской словесности могло бы служить одним из сильнейших противодействий тому, что может быть вредного для народа в науках, взятых отдельно от религии”31.
Словом, церковнославянский язык — высшая страта русского языка, выполняющая “роль эталона, камертона и даже ковчега, уберегающего русский язык и культуру, русский народ и его душу, его православную веру от распада”32. Вся многовековая история русской словесности убедительно свидетельствует, что без церковнославянского языка не было бы нашего прекрасного и удивительного литературного языка.
Церковнославянский язык прочно и органично вошел в самые толщи русского языка в качестве организующей силы его изначальных основ. И отказаться от него “так же невозможно, как, скажем, вынуть из толщи земной коры кембрийский пласт”33. Именно в нынешней нашей жизни мы пожинаем плоды попыток изъятия из монолита русской культуры ее основных, цементирующих составляющих — Православия, нашего исконного языка, нашей словесности. Потому и буйствует на запущенном поле чертополох жаргонов, сквернословия, чужеземных сорняков. И огромная роль в очищении нашего речевого поля от всей этой скверны принадлежит церковнославянскому языку как хранителю русского национального генома. Из века в век неумолчно рокочут в нем струны его божественной, живоносно-немеркнущей силы.
Примечания